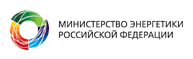© Все права защищены. “ТЭК. Стратегии развития”, 2010
Создание и поддержка - RusCable.Ru
|
Издается при официальной поддержке Минэнерго России с марта 2010 года
|
|
|
Испытание давлением
За сорокалетнюю жизнь в отрасли на мою долю
выпало немало трудностей, приходилось переживать сложнейшие ситуации. Но
испытания, о которых я хочу рассказать, были моментами наивысшего
напряжения сил – духовных и физических. Мысленно возвращаясь к тем
годам, я уверен, что сама жизнь готовит человека к «испытанию
давлением». И может быть, такая философия бытия идет у меня от
непростого военного детства и уроков, которые давал мне отец.
 Владимир ЧИРСКОВ
Владимир Григорьевич Чирсков родился в 1935 году в
Саратовской области. С 1955 года работал в строительных управлениях
треста «Туймазынефтестрой» механиком и старшим механиком, затем главным
механиком треста «Башнефтепромстрой» в Нефтекамске Башкирской АССР.
Владимир Чирсков принадлежит к славной плеяде государственных деятелей, с
чьими именами связано создание в Западной Сибири крупнейшего в мире
топливно-энергетического комплекса. Он стал одним из пионеров
обустройства тюменских нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений. Пять лет возглавлял трест «Тюменьгазмеханизация». В 1973
году стал руководителем территориального Главного производственного
управления по строительству магистральных трубопроводов в районах Севера
и Западной Сибири в Тюмени. С 1978 года Владимир Чирсков – заместитель
министра. В 1984 году возглавил Миннефтегазстрой СССР – один из ведущих
государственных органов в реализации топливно-энергетической программы
страны. В этой должности проработал семь лет – до ликвидации
министерства в 1991 году.
В настоящий момент возглавляет Российский союз нефтегазостроителей.
Его вклад в обустройство нефтяных и газовых месторождений и
высоэффективное решение проблем освоения Западной Сибири отмечены
премией Совета Министров, Госпремией СССР, Ленинской премией. Имеет
правительственные награды – орден Ленина, Октябрьской революции,
Трудового Красного Знамени и ряд медалей. Доктор технических наук,
профессор, академик Российской инженерной академии (1990), академик
Международной инженерной академии (1991).
Автор и соавтор свыше 120 печатных трудов и изобретений в области
строительства объектов нефтяной и газовой промышленности, в том числе
восемнадцати монографий.
ЧЕЛОВЕК С УЛИЦЫ
Родился я на станции Питерка Саратовской области, а в школу пошел в
Лепихиновке в 1943 году, когда фашистов погнали с Волги. На пути в
школу была стройка. Вдоль железнодорожного полотна прокладывали
трубопровод. Я даже предположить не мог, что встреча с «трубой»,
впоследствии ставшей делом моей жизни, была символической. Тогда же и
труба, и вырытая траншея казались мне
досадной помехой на пути. Выбор именно нефтепромыслового техникума
был предрешен тем, что в нем среди прочих специалистов готовили и
механиков. Мы дождаться не могли, когда закончится учеба, и при
распределении не без труда добились своего – нас направили в Туймазы.
Здесь меня назначили механиком строительного управления. Но
по-настоящему вникнуть в дело я не успел. Пошел служить срочную. А после
демобилизации чуть было не сбился с панталыку – поехал в Москву
поступать в Московский институт международных отношений на факультет
журналистики. Дело в том, что я говорил по-немецки: детство-то прошло в
районах, где жили немецкие колонисты. А к журналистике прикипел в армии –
стал пописывать, и, говорили, не без успеха.
Огромная Москва меня не впечатлила. Показалась слишком шумной и
суетливой по сравнению с тихими городками российской глубинки. Я успешно
сдал экзамены по немецкому и прочим предметам, но в институт меня не
взяли, не объяснив толком причины. Тогда я думать не думал, что мне,
сыну сельского работяги, доступ в институт международных отношений
попросту был закрыт – в моем роду не значилось дипломатов, я был
человеком с улицы. Но я не отчаивался, скорее даже – вздохнул с
облегчением. Специаль- ность у меня, слава богу, есть. Кроме того, пора
было помогать старикам.
Решил вернуться в Башкирию, встать, как говорится, на ноги, а учебу продолжить как-нибудь потом.
Мне было 23 года. Имея за плечами техникум и армию, я вполне уже
мог принимать жизненно важные решения, брать ответственность на себя.
ТЮМЕНЬ – ЭТО СУДЬБА
В январе 1966-го наведался в Тюмень. Это была разведка. Я надумал
работать здесь. В сентябре меня назначили начальником отдела механизации
«Главтюменьнефтегазстроя». Не скрою, к новым обязанностям приступил не
без опаски. Дело я вроде бы знал. Нефтяные стройки Башкирии, где прошел
путь от механика участка до главного механика треста, были хорошей
школой. Но достаточно ли этого?
Первому и единственному в то время строительному главку Тюмени
предстояли куда более грандиозные задачи, причем на территории, которая
не только поражала размерами, но и считалась недоступной для
промышленного освоения. И вот первые командировки на Север, знакомство с
условиями работы, состоянием техники. Усть-Балык, Сургут,
Нижневартовск, Стрежевой, Урай… И чем больше я ездил, тем сильнее
охватывала меня тревога. Никогда прежде не доводилось видеть такого
количества новых, едва сошедших с конвейера машин – выведенных из строя
настолько, что оставалось лишь списать их. Стало ясно: к освоению Севера
мы не готовы.
Созданная для иных природно-климатических условий техника не
выдерживает схватки с болотами, мерзлотой, бездорожьем, суровыми
холодами. Вдобавок отсутствовала необходимая инфраструктура. Не было
дорог, аэродромов, складов, ремонтных баз. Но и хозяева техники
заслуживали упрека. То и дело попадались на глаза разграбленные,
утопленные, попросту брошенные в тайге механизмы.
Встречаясь со мной, руководители подразделений напирали на слово
«дай». Дай новые экскаваторы, автокраны взамен вышедших из строя. Если
не переломить такой порядок вещей, тюменская стройка превратится в
огромную свалку преждевременно загубленной техники. – Ну, что скажешь,
как, на твой
взгляд, машинный парк? – таким вопросом встретил меня после поездки
главный инженер главка Юрий Петрович Баталин, мой старый знакомец еще
по Башкирии.
– Как после Сталинградской битвы, – ответил я.
Тогда-то мы с Баталиным и пришли к выводу: дорогостоящая тяжелая
техника должна быть сосредоточена в руках специализированной
организации, которая возьмет на себя и эксплуатацию, и ремонт, и другие
механизаторские заботы. Приказ о создании треста «Тюменьгазмеханизация»
был издан уже в апреле 1967 года. Комната в двенадцать квадратных метров
– вот и все, чем владел трест
в первые дни существования. Первопроходцы Тюменского Севера вообще не знали комфорта в своих
базовых городках. Каково же приходилось десантникам, которые
высаживались в медвежьих углах! Там к их услугам были лишь вагончики с
железными печками и кроватями в два этажа, а то и палатки. Ни радио, ни
кино, ни бани, ни теплого, извините, туалета. И если бы только это!
Каждый объект становился своего рода крепостью, для взятия которой
требовались хитроумие и упорство. Вспоминаю Самотлор. Его бесчисленные
болота отличаются особым коварством, не застывают даже зимой. Сколько
торфяной каши вычерпали здесь экскаваторщики, сколько песка вбухали в
глубокие топи, сколько соорудили лежневок, чтобы не утопить машины! А
Медвежье? Это целая эпопея. Здесь мы познакомились с тундрой – с
пронизывающими ветрами, постоянными снежными заносами,
пятидесятиградусными морозами. Но главным «орешком» была гранитная
твердость грунта.
…Нефтепровод «Самотлор – Альметьевск», насосная станция «Торгили».
Очередная моя встреча с Баталиным. И неожиданный разговор в газике на
ухабистой лесной дороге. – Скоро в Тюмени появится еще один главк, –
сказал Юрий Петрович.
– Главное территориальное производственное управление по
строительству магистральных трубопроводов в районах Севера и Западной
Сибири. Есть мнение назначить начальником главка… знаешь кого? Тебя.
Не скрою, я был польщен. Однако у меня были достаточно уважительные причины для отказа. Я крепко
сработался со своим коллективом, и не очень-то хотелось бросать его
ради неясных перспектив. Через несколько дней меня пригласил к себе
первый секретарь Тюменского обкома партии. Конечно, для разговора о
«Главсибтрубопроводстрое».
– Три главка ведут работы на наших трассах, – сказал Борис Евдокимович Щербина. – И все три сидят в
Москве. Руководство оторвано от объектов, многие вопросы решаются
неоперативно. Что означают эти объекты для экономики страны, вам, я
думаю, объяснять не нужно. А если заглянуть на несколько лет вперед?
Потребуется удвоить, утроить объемы добычи нефти и газа. И завтрашние
трассы наскоком уже не взять. У них должен быть настоящий хозяин здесь, в
Тюмени. Убежден, что главк будет крупнейшим.
Эти слова я вспомнил, когда оказался в начале июня 1973 года в
кабинете секретаря Центрального Комитета партии Владимира Ивановича
Долгих. Хотя я и не робкого десятка, но побороть волнение не смог. Ждал
экзамена. И не ошибся. Секретарь ЦК поинтересовался, знаю ли я, как идут
дела у нефтяников и газовиков области. Я назвал цифры. Рассказал о
трудностях, встретившихся на трассе «Самотлор – Альметьевск».
– А что, по-вашему мнению, нужно сделать, чтобы резко ускорить
строительство трубопроводов в Западной Сибири? – спросил Владимир
Иванович.
Над этой проблемой я в последнее время размышлял постоянно. Свел
воедино все, что читал, слышал о трассах, приплюсовав собственные
наблюдения. И начал перечислять: создать технику для покорения болот и
вечной мерзлоты; автоматизировать потолочную сварку; отказаться от
битума при изоляции труб, перейти на полимерную пленку…
Ответы, по-видимому, попали в точку. Во всяком случае, с этой
минуты беседа пошла по иному руслу – говорили о структуре главка, о том,
как формировать его подразделения, аппарат. Владимир Иванович
посоветовал смело опираться на молодежь, на местные кадры.
 На строительстве
газопровода «Ямбург – Западная граница СССР» – в работе автоматический
сварочный комплекс «Север». Тюменская область, 1988 год
 Председатель Совета
Министров СССР А.Н. Косыгин принимает доклад о ходе строительства
нефтепровода «Самотлор – Куйбышев». Тюмень, 1975 год
 Первый десант строителей
на Надымской земле. Слева направо: В.Г. Чирсков, А.С. Барсуков, В.А.
Михайлов, Б.Я. Сучак. Весна 1968 года
ОСОБО НЕСОГЛАСНЫЙ
На трассе газопровода «Уренгой – Челябинск» сваривали последние
километры труб. Мы подъезжаем к просеке в скованной морозом тайге. Шум
работающих машин, звон металла в вечерней мгле. И вдруг – огни, гирлянды
огней. Трасса иллюминирована, как улица в праздник. Это работают
сварщики-монтажники. Вот состыкована с ниткой очередная плеть. Сварщик
надвигает на лицо щиток, напоминающий рыцарское забрало. Электрод
прикасается к трубе – и павлиньим хвостом взмывают вверх искры…
Рабочие на участке озабочены: не подвела бы погода. Мороз крепчал,
усиливался ветер. И это могло задержать работы. Люди спешили. Сложная
обстановка складывалась тогда не только на трассе «Уренгой – Челябинск».
В ноябре 1978-го резко похолодало почти по всей стране. Сильные
морозы стояли в Западной Сибири, на Урале и даже в центральных районах. И
в это время Иран прекратил поставки газа нашим Закавказским
республикам… В Иране произошла революция, и газовый промысел,
обустроенный там нашими специалистами, не действовал. В Союзе
создавалась угроза дефицита газа. Выход из сложившейся ситуации виделся в
скорейшей подаче топлива по трубопроводной магистрали «Уренгой –
Челябинск».
К моменту возникновения этой проблемы уже были испытаны головной и
конечный участки газопровода. А на среднем, между реками Обью, Иртышом и
Турой, заканчивалась сварка труб, велись изоляционно-укладочные работы и
засыпка. На этом участке, а его протяженность превышала 700 километров,
были заняты значительные силы отрасли. Согласно графику испытания
предстояло провести в декабре.
Тогда я, будучи заместителем министра, руководил окончанием стройки
и постоянно находился в Тюменской области. Предстояли испытания. Но
лично для меня они начались раньше. Не газопровод, а меня стали
настойчиво испытывать «высоким давлением». Из Москвы названивал министр
газовой промышленности СССР Сабит Атаевич Оруджев. Его интересовал ход
работ на трассе «Уренгой – Челябинск». Узнав наконец, что сварка
закончена, строго спросил: «Почему не пускаешь газ?». Я пытался
объяснить, что трубопровод еще надо заизолировать, пригрузить и засыпать
на отдельных участках, называл реальные сроки. Но он не слышал меня.
«Ты что, не понимаешь, в какой ситуации оказалась страна? – почти кричал
он. – Сейчас нужно ее спасать, пустить газ по трубопроводу. Окончишь
строительство второй нитки, первую остановишь и тогда все доделаешь». Я,
естественно, все понимал, но не мог с такой постановкой вопроса
согласиться. Оруджев пригрозил пожаловаться. Подобная «стычка» с
министром была у меня не первой. В принципе с Сабитом Атаевичем
сложились хорошие отношения. Я познакомился с ним еще в 1973 году. Пяти
лет общения вполне достаточно,
чтобы узнать человека. Мне импонировали его обеспокоенность делом,
высокая обязательность. Я уважал его как большого патриота нефтяной и
газовой промышленности. Проблемы, связанные с сооружением новых
мощностей, он всегда рассматривал с позиции экономии государственных
средств. Сабит Атаевич мечтал создать специальное министерство по добыче
нефти и газа в акватории морей. И когда в 1977 году этот вопрос был
близок к решению, он предложил мне в случае организации нового
министерства стать его заместителем. В то же время Оруджев был властным
человеком. Он не терпел возражений и не привык к несогласию тех, кто
стоял на служебной лестнице на ступеньку ниже. Всякий отпор вызывал у
него раздражение. Тем более что он, Оруджев, всегда действовал, по его
мнению, в интересах государства, для пользы дела, и потому не считал
зазорным приструнить, а то и припугнуть особо несогласного. Вот и сейчас
он прибегал к уже знакомым мне методам. В памяти всплыла история,
случившаяся год назад, во время испытания компрессорной станции другого
газопровода, также берущего начало на Тюменском Севере.
 Заместитель Председателя
Совета Министров СССР Б.Е. Щербина ведет душевную беседу со строителями
нефтепровода. Тюменская область, 1985 год
РИСК ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
В конце 1976 года мы закончили строительство нитки «Надым – Пунга –
Вуктыл – Ухта – Торжок». Однако существенно увеличить объем поставки
газа можно было только при пуске в работу одной из компрессорных станций
в Тюменской области, на участке перед Уральскими горами. Такой станцией
была определена «Приполярная». Ее ввод намечался на январь. Однако
случилось непредвиденное. 18 января при морозе около 30 градусов во
время испытания воздухом технологических трубопроводов высокой стороны
станции произошло разрушение практически всех трубопроводов. К
сожалению, не обошлось и без человеческих жертв. На следующее утро мы с
группой работников прилетели из Тюмени на станцию. Перед нами открылась
ужасающая картина. Здесь все предстояло начать заново. Почему произошел
взрыв, должна была определить межотраслевая комиссия. Но стало ясно, что
станция в работу войдет не скоро. Из поселка Игрим я сообщил Щербине
(он тогда был министром строительства предприятий нефтяной и газовой
промышленности) о случившемся и о принимаемых мерах. Борис Евдокимович
сразу же спросил меня:
«Что думаешь об ускорении ввода другой компрессорной станции –
«Перегребной»? Это поправит дело». Я пообещал сделать все возможное. И
вот где-то в конце января мне в Тюмень позвонил Оруджев. Он спросил,
каким образом я собираюсь испытывать эту станцию. Я ответил, что,
видимо, воздухом. «Имей в виду, – сказал он, – уже взорвали одну
станцию, я не позволю взорвать другую», –
и положил трубку. Этот звонок как бы предупреждал меня: «Не ходи на
красный свет». И в самом деле, повторение было возможно. Ведь испытание
воздухом при низких температурах вполне могло оказаться причиной
лавинного разрушения технологических трубопроводов на «Приполярной».
Ученые
здесь никаких гарантий не давали. Оставался один вариант – испытать
трубу водой. Но этого на подобных объектах, да еще при столь низких
температурах наружного воздуха никто никогда не делал. К тому же эта
рискованная операция требовала тысячи кубометров нагретой воды. Конечно,
я держал в уме и строгий приказ министра «Об аварии на компрессорной
станции «Приполярная». Где черным по белому значилось:
«Предупредить начальника Главсибтрубопроводстроя т. Чирскова В.Г.,
что, если им не будут приняты необходимые меры к улучшению организации
работ при проведении испытаний на объектах, он будет привлечен к строгой
ответственности». Но нужно было действовать, и немедля! Я вылетел на
компрессорную, на месте стали прикидывать, как организовать подогрев,
что нужно сделать для быстрого удаления воды из трубопроводов.
Определили продолжительность испытания и допустимые
температуры воздуха и воды. Расчеты показали: шанс есть! Я дал команду приступить к делу.
И тут опять звонок Оруджева. Вопрос пугающий: сколько у меня
партийных билетов. «Вы что, вторую станцию решили если не взорвать, так
разморозить? Имейте в виду – я этого так не оставлю!» И не оставил – дал
распоряжение начальнику Тюмень-газпрома не врезать линию, позволяющую
подать газ для последующего вытеснения воды. Между тем стране позарез
нужен газ. Время шло. Но никто не хотел сделать самое трудное – взять
ответственность на себя. Двум смертям не бывать, одной – не миновать! Я
решил пойти на риск, учитывая, что в подаче газа для вытеснения воды
было категорически отказано.
Расчеты инженеров и квалификация рабочих не подвели. График
испытания компрессорной станции был выполнен поминутно. И все это при
температуре воздуха минус 36 градусов! Вечером того же дня Всесоюзное
радио сообщило, что в Советском Союзе впервые в мировой практике в
зимнее время испытана водой компрессорная станция.
Тогда все закончилось благополучно. Что же будет на этот раз, когда
Оруджев в категоричной форме требует пустить в эксплуатацию
недостроенный участок газопровода, мотивируя и впрямь острыми,
безотлагательными нуждами страны?
Я всегда считал, что нельзя слепо следовать указаниям начальства.
Необходимо действовать с учетом сложившейся обстановки, имеющихся
возможностей. Поскольку я находился на трассе, то видел, что завершить
все работы и ввести газопровод в эксплуатацию к концу декабря, то есть в
плановые сроки, – реально.
Поэтому твердо говорил Борису Евдокимовичу Щербине: «Давать
согласие на предложение Оруджева нельзя». И все же в глубине души
опасался, как бы не последовало директивы из высшей инстанции. Поэтому
обговорил свою позицию с первым секретарем Тюменского обкома КПСС Г.П.
Богомяковым и первым заместителем Щербины – Ю.П. Баталиным. Они обещали
поддержать меня. К счастью, директивы «сверху» не поступило.
К середине декабря работы на участке газопровода между Объю и Иртышом были закончены. Помню,
когда шла продувка последнего участка газопровода, в Тюмень
прилетел Щербина. Мы вместе с ним в домике на озере Лебяжьем под Тюменью
слушали рацию. Она ни на минуту не умолкала. И все происходящее на
«недосягаемом пространстве» можно было ясно представить по вкраплениям
ненормативной лексики. Особенно ядреным становился разговор в эфире,
если случались те сложности, что бывают при продувке трубопровода газом.
Давление поднимали одной компрессорной станцией. Это было 31 декабря
1978 года, люди уже встречали или готовились встречать Новый год. Мои
мысли непрестанно возвращались к семье: матери, жене и дочери. Очень
хотелось поскорее быть дома, вместе с ними. Но мы, проводившие
испытания, были «отрешены» от праздничного настроения.
Да, заканчивать большое дело так же непросто, как и начинать его,
если выполнять все не формально, не под давлением высокого авторитета,
не из боязни лишиться должности, а расчетливо, по доброй воле рискуя,
надеясь на точность инженерных выкладок и высокий профессионализм
коллег. В 20 часов давление в трубопроводе 64 атмосферы, температура
воздуха минус 38 градусов. Прогноз с Севера – холод крепчает. Повышать
давление опасно: резко растет хрупкость труб. В Москве на связи не
Оруджев. Осознал, видно, что переборщил, нажимая на меня. Держим совет с
заместителем министра газовой промышленности В.А. Динковым. Принято
решение: испытание прекратить, установить проходное давление в
трубопроводе 55 атмосфер. В 23 часа 31 декабря 1978 года даю команду:
«Открыть краны газопровода», – и уренгойский газ пошел в Челябинск! Душа
ликовала. И в то же время я испытывал чувство огромного удовлетворения
от того, что не сдал позиций, принял ответственность на себя, выполнил
свой долг.
 Члены последнего
правительства Советского Союза на сессии Верховного Совета слушают речь
М.С. Горбачева, предопределившую их отставку. Москва, ноябрь 1990 года
 Председатель Совета Министров СССР Н.И. Рыжков на нефтегазовых стройках Тюменской области, 1988 год
ПРОЩАЛЬНЫЙ РЫВОК
Где-то с середины 1989 года с фактического благословения Горбачева
началась «охота на ведьм»: в министерствах, этих «монстрах стагнации»,
усмотрели главных врагов перестройки. Дело дошло до прямого
науськивания. На встрече с рабочими Норильского комбината Горбачев
призвал слушателей кончать с министерскими структурами: «Давайте, вы их –
снизу, а мы – сверху». Было понятно: до развала отрасли остались
считанные дни. Стали искать выход, который позволил бы не просто
избежать ожидаемых потерь, а всерьез вписаться в рынок. Помню, мы долго
говорили с Виктором Черномырдиным, который, как и я, твердо стоял за
создание концерна. Именно за этими образованиями виделось будущее.
Перспективное дело явно заматывалось, и, промаявшись безо всякого
толку до середины октября, я, не рассчитывая на успех, ибо веры
Горбачеву уже не было, написал ему, скрепя сердце, письмо. И, конечно,
ни ответа, ни привета. Очевидно, президенту тогда было уж совсем недосуг
разбираться с такой «мелочевкой», как наш концерн. Земля горела у него
под ногами. Пытаясь как-то спасти свой престиж, он поспешно «сдал»
тогдашний состав правительства, таким образом сделав нас козлами
отпущения. В начале декабря – попытка не пытка! – я был у Николая
Ивановича
Рыжкова, решив не уходить из его кабинета, пока не добьюсь
поддержки своего, прямо скажем, авантюрного, однако спасающего отрасль
плана. Я употребил все свое красноречие, чтобы убедить Николая Ивановича
подписать постановление о создании концерна, не дожидаясь принятия
Верховным Советом решения о ликвидации министерства. Рыжков не дал себя
долго упрашивать, чем по-хорошему удивил меня в очередной раз, и 7
декабря 1990 года было подписано постановление об
образовании государственного концерна «Нефтегазстрой». В результате
создалась парадоксальная ситуация – стали существовать два органа
управления: министерство, которое возглавлял я, и концерн, руководить
которым стал мой первый заместитель Г.И. Шмаль. Впрочем, чего только не
случалось
в непредсказуемый период горбачевской перестройки. Однако итог был
утешительным – худо-бедно отрасль осталась в живых. Вопрос: надолго ли
хватит?
В августе 1990 года, к великому сожалению, ушел из жизни Борис Евдокимович Щербина, который меня
морально поддерживал все это сложное время. Работать под
непосредственным руководством президента, действий которого я давно не
разделял и которому не доверял, но в то же время был вынужден нести
ответственность перед трудовыми коллективами отрасли за их благополучие,
я не
мог. В конце декабря 1990 года я направил на имя полуотставленного
главы кабинета просьбу об освобождении меня от обязанностей министра.
Поскольку я подал заявление об отставке, ни на одном заседании кабинета
уже не присутствовал. Систематически напоминая о своей отставке, я не
получал ровно никакого ответа.
Время шло. Мне исправно подают машину из гаража Совмина, привозят
зарплату из Кремля. Живу на государственной даче в Успенском. Можно,
конечно, было подождать и пожить так годик-другой. Не позволяла совесть,
да и до пенсии еще пять лет надо было где-то работать. Поэтому мы
решили, что меня от должности министра освободит мой заместитель –
председатель ликвидационной комиссии министерства А.П. Весельев. И в мае
1991 года он подписал приказ.
После этого никто из руководства страны со мной не беседовал и не
интересовался тем, кто и как меня освободил. Я сам сказал водителю
совминовского гаража, чтобы больше за мной не приезжал. Позвонил в
бухгалтерию Совмина, попросил зарплату мне не привозить, освободил
госдачу. Так закончился семилетний период моей работы министром СССР. И
вот о чем я думаю сегодня: каждая, даже самая рядовая профессия имеет в
своем словаре ключевое понятие, обозначающее пик производственной
ситуации, наивысшее напряжение завершающегося рабочего цикла. Для
строителей трубопроводного транспорта, которому я отдал более сорока
лет, это понятие заключено в словах «испытание давлением». Здесь ничего
загадочного, все внешне на редкость просто. Многокилометровый участок
будущего газо–или нефтепровода сварен, состыкован в нитку. Но прежде,
чем открыть задвижки и пустить продукт в магистраль, надежность
газопровода испытывают повышенным давлением – специальной подачей газа
или воды. И если испытание давлением выдерживается, стройка облегченно
вздыхает: сработано на совесть, без сучка и задоринки.
Стоит, однако, сказать, что испытание давлением в моей практике
частенько приобретало и расширительное толкование, когда проверялись на
крепость не только инженерные сооружения, но и нравственные качества
человека.
Случались годы, когда на строительстве трубопроводных магистралей
было занято до 250 тысяч человек. И если расспросить любого из
участников этих строительных эпопей, я уверен, каждый припомнит свое
«испытание давлением» и то, как – с честью или потерями – он из него
вышел.
 Изоляционно-укладочная
колонна А.С. Быкова треста «Приобьтрубопроводстрой» на строительстве
газопровода «Пунга – Вуктыл». Тюменская область, 1976 год
Опубликовано в журнале "ТЭК. Стратегии развития" №4 июль-август 2010 |
||
| Главная О журнале Новости Содержание Подписка Реклама Отзывы Контакты | ||||
|
||||